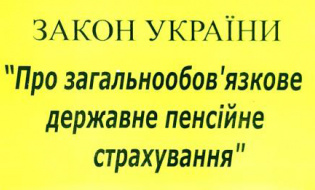Когда так много позади
всего – в особенности горя,
поддержки чьей-нибудь не жди –
сядь в поезд, высадись у моря.
Иосиф Бродский
Еще были времена, когда в Одессе на старом рыбном базаре вы могли спросить хозяйку, продающую из плетеной корзины свежую ставриду:
– Откуда рыбка?
А она могла ответить, щиро улыбаясь:
– Та с Санжейки же!
Санжейку, рыбачий поселок на берегу моря, не раз поминал и Константин Паустовский во «Времени больших ожиданий». Во время своего первого плавания на «Димитрии», вспоминал писатель, его попутчиком оказался смотритель Санжейского маяка. В лоции Черного моря читаем: «Маяк Санжейский установлен на берегу вблизи селения Санжейки в 10, 6 мили к норд-норд-осту от Днестровско-Цареградского гирла», по пути к Одессе. Паустовский мечтал жить на маяке и писать книги под шорох морского прибоя. Свою мечту он смог осуществить в 1960 году. В письме своей переводчице Лидии Дельт в Париж он писал: «Этим летом мы всей семьей… поехали на Черное море, но не на курорт, а в маленький рыбацкий поселок в степях, между Одессой и устьем Дуная. Там бесконечные пустынные пляжи, море, полынь, косматые и застенчивые псы, все в репьях, и рыбаки – обрусевшие греки, всякие Арфаны, Стаматаки и Трояны. Мирные, мужественные и робкие (конечно, только на суше) люди.
В толстом энциклопедическом томе «Одеська область» среди населенных пунктов описания селения Санжейка вы не найдете. Историки и краеведы могут рассказать, что в тех местах после окончания войны России с Османской империей на границе стояли греческие ополченцы. А из истории Запорожской сечи известно, что почти на всех малых реках Дикого поля стояли коши запорожцев: одна-две хаты, вишневый садок и челнок для ловли рыбы.
…Летом я с некоторых пор не купался на знаменитых городских пляжах – Ланжероне, Отраде, в Аркадии. В семидесятые годы мы всем семейством, с дочкой и маленьким сыном, ездили по воскресеньям трамваем на Большой Фонтан, где на 15-16-й станциях намыли новые пляжи. Они были еще чисты и малолюдны – тогда считалось, далеко от города.
Каждый приезжий в Одессе уже на вокзальном перроне может услышать о сказочном отдыхе на Каролино-Бугазе, о том, что невдалеке от Одессы есть замечательные места, напоминающие бразильскую Копакабану или калифорнийскую Санта-Монику. Садитесь в электричку до Белгорода-Днестровского и считайте станции: Сухой лиман, Аккаржа, Морская, Каролино-Бугаз… Поезд будет идти вдоль побережья Черного моря, вдоль бесконечных золотых пляжей
…В один из воскресных дней на станции Морской прямо из вагона электрички я вышел на песчаный пляж к морскому прибою. То был действительно сказочный день. Побродив по побережью, я увидел, что кроме принадлежавших базам отдыха, на Каролино-Бугазе остается много диких пляжей, где желающие могут разбить палатку и оставаться у моря столько, сколько душе угодно. И в первый же день своего очередного летнего отпуска я снарядил свой любимый оранжевый туристский рюкзак, взял палатку и уехал дикарем на побережье.
Позже на этих песчаных пространствах я найду себе постоянное место и назову его, с подсказки Хуана Карлоса Кастанеды, Сонорой. Пески моей Соноры четко отделялись от обрыва степного плато, поросшего травой, теряющей зелень от солнечного жара уже в июне. Здесь росли в изобилии ромашки и бессмертники. В полдневный зной шанельно пахли сиреневые цветы репейника высотой чуть ли не в человеческий рост. На песке росли стелющиеся кусты, похожие на мягкий курчавый можжевельник. У спуска из расположенного вверху пионерлагеря щедрую тень давала абрикосово-алычовая рощица, выросшая, наверное, сама по себе из брошенных туристами косточек. Еще в моей пустыне куртинами собирались оливковые рощицы. Кусты их были колючими, а цветение весной до головокружения пьянящим. Все песчаное пространство как по линейке было расчерчено рядами тонких колосков, на которых в июле появлялись маленькие лиловые цветки с неповторимо нежным ароматом. Как все это выживало под палящим солнцем южного лета, уму непостижимо.
Когда-то на этих побережьях жили античные греки. Они сажали виноградники и оливковые рощи. Потом их солнечные полисы стерли с лица земли варвары. Оливы одичали и с тех пор выращивают сами себя по всему побережью нашего моря.
Среди множества чудес и неожиданностей, с которыми я встречался в Соноре, одно поразило больше всего. Хотите – верьте, хотите – нет, но здесь время текло по-своему: обычные механические часы то катастрофически отставали от реального времени, то молниеносно убегали вперед.
Мне нравилось каждую весну открывать купальный сезон на своем необитаемом острове. Я сходил с электрички, проходил через студенческий лагерь политеха и спускался к морю. На песчаных пляжах, разглаженных зимними штормами до коричневых обрывов плато, первыми оставались следы моих ног. И самое главное и замечательное то, что целыми днями я мог пребывать здесь в полном одиночестве.
Житье-бытье дикарем на морском побережье – ни с чем не сравнимое удовольствие. Каждую ночь звездный шатер над тобой – это ли не чудо! В букинистическом магазине я нашел и купил за десять копеек карманный звездный атлас Г. Ленгауэра для мореходных школ и взял его на свой необитаемый остров. И мог изучать небо по звездным картам, выполненным тушью на прозрачной кальке кем-то из курсантов. Я уже знал названия и изображения созвездий от известной всем Большой Медведицы до Гончих Псов. В бескрайности Млечного Пути мог разглядеть туманность Андромеды, звездное скопление Персея, хороводы сестричек-Плеяд, а в июле и августе под падающими звездами различал метеорные потоки Акварид и Орионид. Я мог рассказать и о плавающих звездах, и о встрече восходящего светила по утрам, и о степенных чайках, и о тающих на солнце медузах, – обо всем том, что Паустовский охарактеризовал во «Времени больших ожиданий» как «морское одиночество, зачастую близкое к состоянию безмолвного душевного подъема». Этот подъем может подарить только море, когда ты остаешься один на один с ним.
Все дни добровольного отшельничества я проводил на берегу и в море. Утро для меня начиналось с прогулки вдоль прибоя и поиска в ракушечных развалах выброшенных ночью раковин рапан, морских гребешков и мий.
Как-то утром на песке у кромки моря я подобрал птичье гнездо с удивительно нежным запахом. Это было настоящее произведение искусства и технологии природы. Неизвестная птица свила воедино травинки и колоски так крепко, что гнездо, попавшее в море, не разрушили даже штормовые волны. Когда я принес домой и показал это гнездо моей пятилетней внучке Сашеньке, она вдыхала его нежный запах, закрыв глаза, а потом сказала: «Это родовое гнездо». Где она услышала это понятие? Не знаю. Я много лет хранил эту находку в коробке среди экзотических раковин. Моя внучка в Нью-Йорке уже стала строгой красавицей Алекс и училась в колледже на журналиста, внук Алан заканчивал школу, а я как-то открыл коробку и обнаружил наше «родовое гнездо». Сколько лет прошло, а оно все так же сохраняло тот неповторимо нежный аромат! Видно, Сонора действительно обладала некой энергетикой силы и духовной красоты.
На «моем пляже», располагавшемся далеко от баз отдыха, ко мне привыкли даже чайки. Они стаями взлетали, когда издалека шли посторонние, а меня не боялись и вертелись у моих ног, как домашние куры.
А видели ли вы клин журавлей, улетающих осенью к Дунайскому понизовью и дальше на юг? Слышали ли музыку их прощального курлыканья, отзывающегося, как эхо высших сфер, в небесной голубизне? Для описания этой голубизны можно применить любимое выражение А. Пушкина: неизъяснимый небесный цвет. Наблюдали ли когда-нибудь, как из ночного моря выходит горящая серебряным огнем Афродита?
Я имел счастье видеть такое чудо. В одну из тихих ночей услышал громкие возгласы и смех аборигенов, таких же, как я, дикарей. Пошел к морю и увидел во тьме шевеление белого света у полусонного прибоя. Зачерпнул воду, и с моих ладоней потекло холодное расплавленное серебро. Бросил в волны камень, и вода взорвалась брызгами огней. А когда вошел в море, тело мое покрылось бусинками огненной росы. Я купался в блистающем фейерверке, рукой закручивал в глубине спирали галактик – оторваться от этого чуда стоило немалых усилий. Когда-то в юности довелось нырять в живое свечение моря в Отраде. Но теперь я знал, что вызывают его ночесветки-ноктилюки, миллиметровые шарики с хвостиком, одновременно флора-фауна: они вспыхивают от прикосновения ко всему – человеку, рыбам, кораблю, веслам, камням – и люминесцируют.
А другой летней ночью я обнаружил вдоль кромки прибоя звездный Млечный Путь, уходящий вправо и влево от меня во тьму. Упавшие с неба мириады звездочек оказались маленькими рачками. Я зачерпнул их в банку, и она светила в палатке всю ночь как неоновая лампа, при этом свете можно было читать.
…Когда я впервые на большом семейном застолье услышал разговоры о Санжейке, то аж подскочил. Оказалось, речь шла о базе отдыха объединения «Прессмаш» недалеко от Санжейки. И в первое же воскресенье я отправился туда, на побережье. База представляла собой несколько десятков деревянных домиков на берегу, а в распоряжении отдыхающих были широкие и протяженные пляжи чистейшего песка. Здесь каждое лето работали мои родственники-пенсионеры.
Базу устроили в том месте, где в море впадала непересыхающая речка с полынным именем Барабой. В ее устье за много лет образовался обширный эстуарий – лиман, заросший густым камышом, полный пресной рыбы и поющих лягушек. Когда туда впервые приехал со мной мой маленький сын, учился удить рыбу и поймал плещущегося карпа, радости его не было предела. А уж когда мы на лодке вышли удить ставридок, и впервые он вытащил из воды пять или шесть трепещущих рыбок, оторвать его от рыбалки уже было невозможно.
Утром, до восхода солнца, надо было идти к Санжейскому маяку, к маленькому причалу, куда рыбаки с моря приводили шаланду, полную хамсы и кильки. Там уже стояли хозяйки и дачники из округи с пустыми ведрами. Рыбаки черпали живое серебро и щедро насыпали в подставляемую посуду.
Константин Паустовский пробыл в Санжейке недолго. Семья местных греков Троянов отдала ему в распоряжение только что выстроенную хату с толстыми полутораметровыми стенами из ракушняка – лучшей защитой от палящего зноя. Трояны вспоминали, как Паустовский что-то писал в открытой беседке над самым морем, как удочкой ловил бычков на маячном причале и как потом прислал им из Москвы мотки редкой и очень ценной по тем временам капроновой лески. Люди простые и бесхитростные, они совершенно случайно сохранили тот самый рукомойник, из которого умывался писатель.
Оставаясь в Санжейке на базе в выходные, я на рассвете каждый день ходил наблюдать, как величаво выплывает из моря раскаленный солнечный шар, как красный жар его превращается в слепящий свет, и как потом солнце стремительно отрывается от морского горизонта. Я много километров проходил по побережью с увесистой палкой в руках, потому что на всех базах отдыха жили отнюдь не «застенчивые», как у Паустовского, псы. Завидев издалека человека, они поднимали оглашенный лай и выскакивали защищать свои территории. Правда, собаки ретировались сразу, как только человек наклонялся, делая вид, что подбирает камень. Особенно опасны эти псы-робинзоны были поздней осенью, когда базы отдыха пустели. Тогда оставался на всю базу один сторож, как правило, очень добродушный и разговорчивый дед Щукарь, который знал массу прелюбопытных историй, связанных с морем, рыбалкой и отдыхавшими здесь красавицами со всех концов страны.
Я даже как-то собрался сам остаться сторожем на базе «Прессмаша» на зиму. Уж очень хотелось увидеть, как штормовые волны гоняют по песчаному побережью или превращаются в снежную кашу в суровую зиму. Не довелось. Скажу только, что пребывание на берегу моря в качестве Робинзона гораздо интереснее организованного отдыха. Это как раз то самое состояние беззаботности и отсутствия всяческих тревог и беспокойств, которое, по Паустовскому, и входит в понятие счастья.
(Печатается в сокращении).