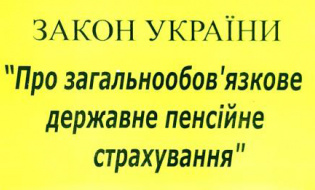В полдень над разрушенным зданием райисполкома Волновахи затрепетал красный флаг. На площади возник стихийный митинг. Субботин смотрел на флаг, развевавшийся на ветру, и был горд, что его родной батальон одним из первых подразделений корпуса ворвался в Волноваху.
За успешные действия Верховный Главнокомандующий объявил всему личному составу 2-го гвардейского механизированного корпуса благодарность. А 6-й гвардейской механизированной бригаде, в числе других частей, было присвоено наименование Волновахской.
После боев за Волноваху 2-й гвардейский механизированный корпус был выведен в резерв 2-й гвардейской Армии.
Батальон готовился к новым боям. Старались все предусмотреть, чтобы не получилось как у плохих моряков – корабль тонет, а они чинят паруса. Однажды Субботин проверял состояние оружия в подразделениях. Начал с роты Бурлаченко. Тот доложил о готовности подчиненных к проверке, спросил:
– Мои пушки смотреть будете?
Комбат не ожидал такого вопроса. Пристально глянул на стройного, высокого ротного снизу вверх и сказал:
– Будем. А как же!
В строю послышался шумок. Субботин уловил краем уха: «Всем, так всем», «Интересно, интересно…», «Все равно скажет отлично».
Тщательно осмотрел пистолет Бурлаченко, автомат, затем вызвал из строя Петренко, сказал:
– Считаю, хозяин любит оружие. Как Ваше мнение? Проверьте.
Бойцы одобрительно загудели, шутили:
– Петренко, попридирчивей гляди, нам легче будет.
– Ждите взыскания, товарищ капитан.
Бурлаченко сдержанно молчал, что-то не нравилось ему в этой затее. Он с напускным безразличием следил, как Петренко дотошно обследовал его автомат. Тот протянул комбату оружие, высказал свое мнение:
– Как куколка.
Субботин взял автомат, повесил на плечо Бурлаченко. Поправил ремень. А затем приказал бойцам проверять оружие друг у друга попарно.
Солдаты оживились, заклацали затворами. Бурлаченко улыбнулся:
– Уверен, поблажки никто никому не даст.
Так оно и получилось. Напарник Петренко чуть до слез его не довел, упрекая, что ствол автомата грязный. Видать, где-то Петренко свою власть показал, вот тот теперь и усердствовал, подтверждая правоту любимого изречения бывшего моряка-тихоокеанца: «Без порядка нет победы».
Комбату пришлось вмешаться. Предложил перекурить. Первым присел под раскидистым кустом бузины. Достал из полевой сумки кисет, набитый под завязку махоркой.
– Налетай, гвардейцы.
Все потянулись к кисету, заскорузлыми, жесткими пальцами брали махорку и тут же крутили кто цигарку, кто козью ножку.
– Оставьте хоть малость, чертяки! – крикнул припоздавший Петренко.
Субботин протянул ему почти пустой кисет. Сам он не курил, чем многих удивлял, но всегда имел при себе запас махорки. Папиросы же расхватывали офицеры тут же, когда их получал.
Любил комбат вот так, по-свойски, собрать возле себя солдат, угостить куревом, послушать их неторопливый говор. И они ценили такую его доступность, доброту.
Петренко вытер пальцы правой руки о тельняшку, и ловко скрутил козью ножку. Протянул комбату:
– Побалуйтесь, товарищ капитан.
И Субботин, на удивление всем, ответил:
– Не откажусь.
Солдаты глядели, как комбат неумело, без затяжки, покуривал, и прятали улыбки в кулаки. Такая человеческая непосредственность командиров, силой приказа свыше поставленных над солдатами, вызывала у них нежное чувство благодарности и какой-то самопроизвольной любви, которая согревает душу. Большое это дело для рядового бойца, если командир его и прост, как правда, и доступен, как близкий человек. Все с ним разделишь, всегда его поймешь, потому что уверен – он думает и за тебя, принимает твои заботы, тревоги и радости как свои.
Петро Каверзнев в лихо сбитой на самую макушку выгоревшей на солнце, но с новой звездочкой, пилотке, вывернулся из-за разваленного бомбой сарая и на ходу крикнул:
– Письмо, товарищ капитан!
Семен взял измятый треугольник, прочитал адрес.
– Осокин прислал. Счастье-то какое! – воскликнул комбат, затем обратился к гвардейцам:
– Это мой, ну, крестный отец, что ли. Большевик старый. Кулаки изувечили, но он выжил, работает. Я ему из госпиталя написал.
Осторожно развернул письмо. Все молча наблюдали, разделяя волнение командира. Бойцы знали, что он сирота и такие вот весточки ему в радость. Как им письма от родных.
– Письмо на фронте – событие. Хоть радость в нем, хоть горе, а все одно – у сердца носишь, как частицу того, чем жил, чем живешь и мечтаешь о чем, – рассказывал автору Семен Михайлович через многие годы. Уже будучи генерал-лейтенантом.
А тогда, в минуты затишья между боями, он посмотрел на притихших красноармейцев, начал читать вслух:
«Привет из далекой Удмуртии! Спасибо, сынок, за письмо. Кто его только не читал, вернулось ко мне до дыр протертое. Приятно, мое партийное доверие ты оправдываешь. Бей проклятых фашистов без жалости. Нелюди это, звери в обличье людском. Сердца наши тут кровью обливаются, как слушаем по радио о зверствах оккупантов, в газетах читаем. Как жаль, что не могу быть рядом с тобой! Мсти им, батыр мой, и за меня. За братишку младшего не волнуйся. Он под моим присмотром. А старший воюет, как и ты. Но где, не знаем. Молчит.
Передай бойцам своим и командирам низкий поклон наш. Немного нас, коммунистов, тут осталось, старики больше, да такие калеки, как я. Все на фронте. Но и мы не сидим без дела, чем можем, стараемся вам, родимые, помогать. Выходных не знаем. Спим, бывает, урывками. Сейчас хлеба молотим. Надо до дождей управиться. Часто думаем-гадаем, когда-то кончится проклятая война? Что вы там думаете, на фронте? Сколько же еще терпеть народу такое! Бейте их, гоните с родной земли. Такой наш наказ, родные. Напиши, Семен Михайлович! Обнимаю тебя и благословляю на бой и на жизнь.
Твой Осокин».
Семен умолк. Гвардейцы обдумывали услышанное. Никто не торопился высказаться первым.
– Грамотный, видать, мужик! – сказал первым Петренко.
Комбату, мысленно перенесшемуся в родную деревню, вдруг захотелось рассказать этим, ставшим ему близкими, людям об Осокине подробнее, но тут донеслось призывное:
– На митинг всем! Комбриг проводит!
Через несколько минут солдаты и командиры собрались у полуторки с откинутыми бортами. К кузову была приставлена лесенка из свежих досок. Полковник Артеменко взошел по ней. Снял фуражку и поднял ее над головой, прося внимания. Волнуясь, он заговорил:
– Товарищи! Пройдут годы, отшумят бури войны, но вечно будет храниться боевая слава гвардейцев. Отцы с гордостью будут говорить детям: «Я служил и воевал в Волновахской гвардейской бригаде!»
Нелегкой ценой досталась батальону эта, ранее незнакомая Семену, Волноваха. Горло невольно перехватила спазма, когда начал вспоминать погибших. Они мирно трудились, мечтали, любили, дружили. И вдруг пришли фашисты по их жизни, неся горе и страдания.
В такие вот моменты, после тяжелых боев, масштабнее оценивалась, осознавалась значимость общего вклада, и однополчан, и собственного, в святое дело освобождения родной земли от ненавистного врага.
«Послушал бы ты, Василий Петрович, сейчас комбрига», – мысленно обратился Семен к Осокину. Чувства всех гвардейцев, пришедших на этот митинг, горячо выразил бывалый воин – уралец ефрейтор И. Чижов:
– Закончится война, народ залечит раны. Из руин вырастут новые прекрасные города. В каждом городе будет счастье мирной жизни. А о днях сегодняшних, суровых и грозных, народ сложит песни, легенды. И советский воин – богатырь будет самым дорогим героем на земле. Дети и внуки наши будут веками гордиться и славить своих освободителей, нас с вами, друзья, за то, что мы громили кровавый фашизм. Не пожалеем своих сил и жизни для окончательного разгрома врага!»
Высокая оценка боевых действий гвардейцев батальона воодушевляла их на мужественную борьбу с оккупантами. Они выражали готовность сражаться не жалея крови и самой жизни, заявляли на митинге: «Дойдем до Днепра!», «Доберемся до фашистского логова!», «Окончательно разгромим фашистских захватчиков!».
Не забудем, не простим…
Третий поредевший батальон расположился в дубовом лесу, тронутом осенней желтизной. Бойцы дружно приводили в порядок технику и вооружение, стирали и чинили обмундирование.
В палатку, где расположился Субботин, зашел гвардии старший лейтенант Миша Рожков, все такой же розовощекий, сосредоточенный.
– Хочу устроить помывку личного состава. Нужно согласовать время.
– Где баню нашел? – спросил Субботин.
– Для нагрева воды пустые двухсотлитровые бочки из-под бензина приспособим.
– Каким манером?
Рожков объяснил:
– Вырезаем днище, затем вымываем бочку хорошенько, ставим на железную треногу или на бревна и разводим костер.
– Дело говоришь. Сколько бочек надо?
– Для помывки роты четырех хватит.
– Тогда за дело.
– Есть. Приходи, извини, приходите на первую бочку, – пригласил Рожков и засмеялся.
Пока бойцы под руководством хозяйственного Михаила сооружали треноги, оборудовали бочки, Субботин приказал Каверзневу разыскать парикмахера и сапожника. Нашлись такие специалисты.
– Люди, несколько месяцев не выходившие из боев, заслужили заботу о себе, – сказал им Субботин. – Постарайтесь, – а сам пошел вдоль большой поляны. Под кустом орешника спал Петренко – он ночью был в охранении. Поправил сползшую с его богатырского плеча шинель, постоял возле и неторопливо зашагал в чащу. Сел на толстый пенек, вдыхая грибной запах – первые опята пошли. Над головой застучал дятел, в орешнике цвенькнула синица. Ее вспугнул появившийся Каверзнев. Он надвинул на бровь пилотку, одернул гимнастерку левой рукой, а правую держал за спиной. Хитро прищурился, спросил:
– Можно обратиться?
– И тут нашел? Чего тебе?
Петро, улыбаясь, протянул букетик желтых цветов:
– Поздравляю, Семен Михалыч.
Комбат взял цветы, понюхал. И, как ему показалось, они пахли грустью.
– С днем р-р-рождения! – сказал Петро.
– Двадцать один стукнуло. Веришь, Петя, порою кажется, что я всю жизнь воюю.
– Я, товарищ капитан, так мыслю, что г-г-год войны стоит десятка мирных. За день, бывает, такое испытаешь, что на иную жизнь хватило бы. Всех, кто на передовую п-п-попадал и выживет, потом, когда утихнут бои повсюду, когда мы Гитлера побьем, на р-р-руках стоило бы носить.
– Да, ты прав. А мне бы сейчас в родное село, хоть на часок.
– Мечты, мечты, – вздохнул ординарец. – Где с-с-село-то?
– Есть такой район в Удмуртии – Селтинский. Вот в нем и село мое. Зовется оно Гамбер. Мальчишкой был, дал себе слово узнать, почему его так назвали.
– И что ж?
– Не узнал…
– Красивое с-с-село?
– Край мой, Петя, родниковым зовут. Лес у нас – сказочный. Сады чудесные. Теперь там воздух яблоками пахнет. А грибов – граблями греби. Грузди, рыжики, маслята нежные… А сосны! Макушками небо подпирают…
Каверзнев, слушая именинника, притих, а на комбата накатила теплая грусть. Он обхватил колени руками, закрыл глаза и, легонько раскачиваясь, запел. Каверзнев, не понимая удмуртских слов, чутко вслушивался в напев.
– О чем п-п-песня, Сеня?
– О чем думаю, о том пою. У нас, удмуртов, так заведено. Мы поем не готовые слова, а те, что из сердца просятся сами. Я вот о наших лесах, садах, о прекрасной земле пел.
– А как по вашему – с-с-спасибо?
– Тау, Петя, тау.
– Тау, товарищ капитан, за
п-п-песню – душевный напев, мягкий, ласковый.
Петро сел на опавшие листья, как и комбат, обхватил колени руками, как-то тепло, уважительно поглядел ему в глаза и спросил:
– Товарищ капитан, а вы л-л-любили?
– Ты к чему это вдруг?
– Девушка вас ждет?
– Признаюсь тебе, Петя, робкий я по этой части. Меня девчата книжным женихом прозвали. Днем – работа, а по вечерам – книги, книги…
Лес тихо шелестел листвою. С бездонного голубого неба донеслось курлыканье. Журавлей не было видно за густыми ветвями, но Семен мысленно представил, как они плывут в синеве, то и дело перестраивая свой плотный клин.
– А как вы д-д-думаете, Семен Михалыч, есть она, любовь настоящая? Я сам многим девчонкам головы к-к-крутил, а вот так, чтоб серьезно, до с-с-сладости в сердце, ни с одной не получалось…
– Молод ты, брат, не созрел еще до большого чувства. – Семен глянул на растерявшегося Петра, улыбнулся, набрал горсть крепких желудей, сыпанул ими по стволу кряжистого дубка. – А любовь есть, Петя, настоящая. Без нее как же? Люди зачерствели бы. От любви большой, чистой, светлой все: и мужество, и вера, и поэзия. Вот сейчас война идет. Огрубели мы. А, видишь, сердцем не очерствели, светлых чувств не лишились, о любви ведем разговор.
Комбат умолк, а Каверзнев попросил:
– Говорите, г-г-говорите. Интересно.
– А что говорить. Сейчас любовь большую проверку проходит. Горем, кровью, верностью…
– Нет, вы тоже любите девчонку. У в-в-вас есть тайна.
Семен засмеялся, встал, а Каверзнев вздохнул:
– Сейчас бы мне те прошлые
д-д-денечки. Одну-единственную в мире, свою, нашел бы и носил на руках.
– Слушай, Петя, а не отпраздновать ли мой день рождения?
Каверзнев разгладил морщины на лбу, улыбнулся:
– Сей же момент с-с-сварганим стол именинника. Такого и в первоклассном ресторане не с-с-сыщете. Это я вам говорю!