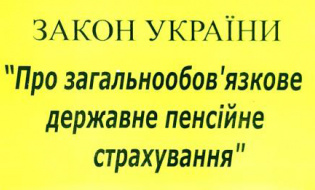Мария Игнатьевна Орищак уже второй год живет в причерноморском
селе Фонтанке, возле дочери Орыси. Говорит, что ей здесь хорошо - вну-
ки, правнуки: Но домой, к родной хате, очень тянет. - Я же дом не продала, пустила молодую пару пожить, - говорит бабушка. - Пусть себе ведут хозяйство с миром, присматривают за садом, огородом: Думаю в следующее лето поехать на родину, если жива буду. Может, в последний раз, ведь в марте 2004-го будет мне 85 годков. Спрашиваю у женщины, помнит ли 33-й.
- Помню ли? - Мария Игнатьевна смотрит на меня глазами, полными слез. - Я пережила тот ужас: И грудной плач всколыхнул ее худенькую фигуру.
- Мама бредет к порогу, чтобы растопить печь коровьим навозом - пусть хоть дух теплый пойдет по хате. Ноги у нее, как две ступицы из колес, - полные и жилистые, потому что вспухли.
Пока цеплялась такими же вспухшими руками за стенку, ноги держали тело, а как наклонилась в сторону, то упала и ударилась головой о косяк. Глаза ее закрылись:
Мы бросились к маме, чтобы поднять ее с пола. Мы - два моих брата, один старше, другой младше меня, и уже взрослая сестра Аграфена, - тоже истощенные, голодные, потому что ели лишь третьего дня какую-то болтанку из картофельных очисток, которые принес в дом сосед. Мама была еще в состоянии их отварить, нас кое-как накормила, а сама не отхлебнула из глиняной мисочки и ложки: пусть все детям! Возимся возле мамы, а она, не открывая глаз, говорит:
- Не тратьте силушки, дети. Вот уже мне конец. Отсюда уже мне к батюшке. Зароете меня в землю рядом с его могилой.
- Не говорите так, мама! - умоляет старший брат Николай. - Я вот отболею, пойду в артель, что-то заработаю и всех накормлю. А для вас куплю лекарство.
Мы продолжаем топтаться возле мамы. Сами падаем от истощения, но стараемся помочь ей, немощной. Наконец, опомнившись, ползет к постели, где на почерневших от дыма и времени досках лежит соломенный матрас, застеленный дырявой дерюгой. Маме удается взобраться на полати, она ложится навзничь и пытается перекреститься. Касается лба и груди, а дотянуться до плеч уже не в силах. Рука корягой повисает к полу.
- Мне приснилось, - едва слышно говорит мама, - что отец ваш зовет к себе, а я лежу в грязи и не могу подняться.
Она забылась, и уже не понимает, что это не сон, а только что сама лежала на полу и эти же слова говорила. Тяжело вздыхает, корчится в конвульсиях и умолкает.
- Мама! Мамочка:
Моих слов, слов всех своих детушек мама уже не слышит. И я больше ничего не слышала и не запомнила. Пришла в себя на следующий день у соседей. Потом были похороны.
Мама лежала в гробу в поношенной ситцевой кофте и босая. Такова была ее прижизненная просьба: <Сандалии возьмите. Мне на том свете не нужны. А вам же нужно в чем-то ходить>.
Мы втроем стояли молча, а самый маленький хватал маму за сцепленные на груди пальцы и ныл: - Мама! Кушать хочу! Кушать. Ну, мама!..
После похорон слег опухший Николай. За окном буйно цвела весна. Молодые листья старых лип шептали о красоте жизни, а он просил нас нарвать тех листьев, мелко посечь, посолить и напечь коржей. До той поры мы пекли их из лебеды. Оказалось, что и зелень липы съедобна.
Свежие коржики не излечили пораженного голодом Николая. Ушел из этого мира за отцом и матерью. А потом с сестричкой похоронили и самого младшего - Тихоню. Тоже опух от голода. Осталась ему от Николая поношенная рубашка, да тело так вздулось, что пришлась она ему впору, хотя Николаю было 18, а Тихоне - шесть.
Сестричке действительно пригодились мамины сандалии. Она пошла в артель. Там варили затируху. Такую, что туман над нею вздымался. Все же ела. А для меня что-то зарабатывала да подворовывала. Вот так и перемучились 1933 год.
Страшное то было время. Люди падали, как мухи. Полсела вымерло. Клали их по нескольку человек в одну яму. Зачастую и без гроба.
Сейчас многие утверждают, что не было геноцида. Был, почему же нет?! Красные активисты отнимали у крестьян все до крошки, чтобы заставить их в колхоз пойти. Без оглядки на старых, малых, больных. А тех, кто пытался защититься, кто что-нибудь прятал, били и отправляли за неподчинение в Сибирь. С того времени и поговорка <За мое жито меня же и бито>.
А сколько сирот разбрелось по свету с мешками! До сих пор вон разыскивают мать - детей, брат - сестру, сестра - брата. Был он, 1933-й.
Мы с Грушей вели домашнее хозяйство недолго. Объездчик поймал ее с двумя свеклами под мышкой, а председатель артели отдал под суд. Где-то в Сибири и след ее пропал. Я оказалась в интернате и там выжила. После войны окончила техникум, получила диплом учительницы младших классов. По назначению приехала в родное село. Работала в школе недолго. Кто-то сообщил в НКВД, что рассказываю детям о голодоморе. Была уволена за антисоветскую пропаганду. Куда ни пойду - всюду отказ в трудоустройстве. Наконец взяли уборщицей в заводоуправление строительного треста. Там нашла себе пару - искалеченного войной кочегара. Родила ему сына Сашу, доченьку Орысю. Но не уберегла сына - после фабрично-заводского обучения (ПТУ теперь) поехал на шахту в Донбасс, где и раздавило его обвалившейся породой.
Вот так и жизнь промелькнула. Спасибо, есть доченька добрая и ласковая. У меня к ней одна просьба: чтобы положили меня умершую на кладбище в Кобеляках Полтавской области возле отца, мамы, двух братьев: Вы не были на Полтавщине? Там яблоки такие - ранеты!