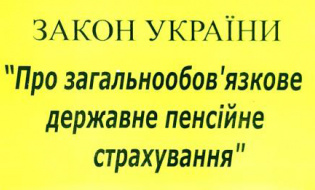И цветы, и шмели, и трава, и колосья,
И лазурь, и полуденный зной
Срок настанет – Господь сына блудного спросит:
«Был ли счастлив ты в жизни земной?»
Иван БУНИН
В своей повести о жизни я написал о том времени, когда работал в газете «Моряк» и был счастлив ежедневным присутствием в моей жизни моря, счастлив окружением Одессы, которая, казалось, почти не изменилась от начала века - со времен, описанных Паустовским, Бабелем, Катаевым, Верой Инбер. Тогда, на рубеже 60-70-х годов, я с упоением ходил по следам автора «Времени больших ожиданий», находил приметы былого и отмечал изменения, которые произошли с начала 20-х годов. Сегодня, когда прошла еще треть века, и к новому тысячелетию произошло столько потрясающих изменений в нашей жизни, мне представляется интересной точка зрения тех лет. И предположение, что есть вечные истины, которые неподвластны времени. Итак, время предложенной вашему вниманию главы – 1971 год.
КОГДА «Моряк» стал выходить еженедельником, да еще в два цвета, заполнять его страницы теперь надо было другим содержанием – официоза и рапортов о трудовых свершениях уже явно недоставало. И мне нравилось, что наш редактор И.П. Беленьков все чаще вызывал меня в свой кабинет, я поднимался на три ступени к его капитанскому мостику, и он этак задушевно говорил мне: «Юра, дай что-нибудь. Нечего же читать в газете».
«Что-нибудь» означало очередной очерк о море, о природе или под рубрику «По следам Паустовского». К этим словам редактора я относился без зазнайства, между нами установилось некое взаимопонимание в оценке материалов газеты, в том числе и собственных журналистов. Конечно, о Паустовском мог писать любой сотрудник, но Игорь Павлович до некоторых пор предлагал эту свободную тему именно мне.
Повесть «Время больших ожиданий» стала любимой книгой миллионов читателей и, конечно, всех одесситов и моряков. Константин Георгиевич написал эту четвертую книгу своей «Повести о жизни» в далекой от моря Тарусе в 1958 году. Отдельным томом она впервые вышла в Одесском книжном издательстве в 1961 году, и хотя тираж по тем временам был небывалый – 100000 экземпляров! – книга быстро разошлась и считалась раритетом. Даже на Староконном рынке за нее требовали небывалую цену.
Никто не знал, что любимую народом книгу, прославившую Одессу, сначала отвергали в московских издательствах. Но мы, тогда студенты журфака МГУ, были весьма и весьма информированной публикой. В 60-х годах в столице начал хождение самиздат, и мы могли читать не только запрещенных писателей и поэтов, но и многие материалы под грифом «секретно». По традиции революционного подполья их печатал неизвестно кто на папиросной бумаге – чтобы больше экземпляров уместилось в машинку. И как-то наедине я рассказал Игорю Павловичу, как повесть Паустовского не хотели брать в журнал «Новый мир». Тогдашний его редактор Твардовский прислал Паустовскому письмо, в котором с сожалением сообщал, что автор не переработал рукопись, как того требовала редактура журнала. «По-прежнему в ней нет мотивов труда, - писал о рукописи Твардовский, - нет борьбы и политики, по-прежнему в ней есть поэтическое одиночество, море и всяческие красоты природы…»
Какой страшный грех, подумать только! Обвинения писателя в «бедности биографии», «созерцательной звездности», отсутствии «единения с народными судьбами» и прочем казались нелепыми и надуманными. Хотя удивительного в этом ничего не было: прозу К. Г. Паустовского догматики пытались втиснуть в железные каноны метода социалистического реализма. Автор не согласился с этим, забрал рукопись из «Нового мира» и отдал в журнал «Октябрь». И «Время больших ожиданий» осталось таким, каким видел его молодой писатель, и Одесса осталась такой же, какой была в его восприятии в начале 20-х годов.
За что и полюбили эту книгу благодарные читатели. В лето 1968 года, когда писателя не стало, в Одессе на ограде улицы Гефта появилась надпись зеленой масляной краской: «Ул. Паустовского». В те времена это был смелый шаг: не наказывались только матерные слова на заборах и стенах, все остальное попадало под пристальное внимание КГБ. На этот шаг, как мы узнали, пошел известный одесский художник-бунтарь Олег Соколов. Надпись говорила, что на этой улочке, носившей прежде название Черноморской, во времена больших ожиданий жил Паустовский. К нашему удивлению, эта надпись долго соседствовала с официальным названием улицы.
ЗДЕСЬ прошло мое послевоенное детство – мы с бабушкой жили рядом, в Лермонтовском переулке. Рыжие обрывы Отрады еще начинены взрывчаткой. На разных уровнях открыты входы в катакомбы. Рыбачьи домики на террасах утопают в вишневых и абрикосовых садочках, помню сети и макитры на плетнях. Блаженный запах цветущей «кашки». Ящерицы и крабы, кузнечики и стрекозы. Терпкий вкус паслена. Короткие штанишки, карманы которых набиты «колбасками» и «спиральками» пороха. Самодельные фейерверки по вечерам в переулках. И каждый день – море!
Я помнил еще вторую сторону улицы Черноморской, которую потом унесли оползни. В 50-х годах в бывшем санатории Ландесмана, где в 20-х годах жил Паустовский, устроили райвоенкомат, я ходил туда, чтобы получить приписное свидетельство.
Из санатория Ландесмана будущий писатель переселился в дом напротив и жил в дворницкой в глубине заглохшего сада. Конечно, для кого-то это был дворовый сарай, но Паустовский назовет его «фортом Монте-Кристо». Здесь он навсегда влюбится в наше «лучшее из морей», здесь он решит стать писателем и здесь его навсегда покорит Муза дальних странствий, таинственная и влекущая, как блоковская Незнакомка. Поэтическая проза Паустовского учила меня смотреть на мир глазами очарованного странника, и я уже знал из собственного творческого опыта, что, как учил мастер на своих семинарах в Литинституте, «с русским языком можно творить чудеса».
В вину автору «Времени больших ожиданий» поставили «море и всяческие красоты природы». А мы за это и любим прозу великого волшебника слова. Прожив жизнь и прочитав еще много замечательных книг, на рубеже третьего тысячелетия я буду утверждать, что не знаю лучшего писателя, который был бы «уловителем и хранителем мимолетной и величавой поэзии природы, украшающей мир и дающей ей смысл».
ЛЕТОМ 1971 года я пошел вдоль моря от Черноморской до Большого Фонтана. Я искал встреч с ящерицами, которые бегут от цивилизации. Тогда еще можно было встретить ящериц на Большом Фонтане и Даче Ковалевского. Но и на Фонтанах уже рокот синих бульдозеров и оранжевых экскаваторов напоминал о большой стройке. Здесь срезали обрывистые берега, грозящие оползнями (они унесли даже часть трамвайной линии), намывали новые просторные пляжи, укладывали в море кубы будущих волноломов, а киевские метростроевцы собирали в бетонные тоннели подземные воды.
Их в старину называли фонтанами, они были единственными источниками воды в ранней Одессе и дали дачным пригородам названия – Большой, Средний и Малый Фонтаны. Родники пробивались сквозь заросли дрока и низвергались водопадами вниз по ноздреватым скалам ракушечника. Поэтому район 10-й станции назывался «Новой Швейцарией». Я расспрашивал стариков о прежних Фонтанах, но мало кто мог вспомнить подробности тех времен. Здесь были виллы аристократов и богатых негоциантов. Мраморные лестницы. Литые ограды. Скульптурные фонтаны. Псарни. Парусиновые тенты купален. После гражданской войны все это было заброшено и разрушено.
Именно здесь любил отшельничать Паустовский. Отправляясь по его следам, я уже знал, какой эпиграф выберу из «Времени больших ожиданий» для очерка в «Моряке»: «Пусть весь день на береговых обрывах шелестит твердая трава. Этот нежный шелест – необъятно старый – слышится на этих побережьях из века в век и приобщает нас к мудрости и простоте».
«НА ФОНТАН! На Фонтан!» - обрадовалась моя дочка, когда мы стали собираться в дорогу за город. Прекрасен Фонтан осенью, почти покинутый людьми, осиянный нестерпимым блеском последнего солнца «бабьего лета». Распахнуты калитки дач, пламенеют увитые плющом ограды, а в садах на мокрых грядках еще цветут королевские ромашки и маленькие хризантемы, которые называют зимней сиренью. Стучат молотки по воскресеньям – это заколачивают досками окна веранд: «прощай, мое лето, пора мне, на даче стучат топорами, мой дом забивают дощатый, прощайте…»
Вчера был дождь, и мы, идя по асфальтовой аллейке, осторожно переступаем через виноградных улиток, которых дочка, как и мы в детстве, называет «лавриками-павликами». Если вы чужой на Фонтане, можете заблудиться в лабиринтах улочек на плато над морем. Узким переулком вы будете идти к морю, чтобы спуститься к пляжу, но придете к крутому обрыву, на самом краю которого может стоять железная калитка, ведущая в никуда – остальное унесли оползни. Вам придется вернуться, чтобы найти более удобный спуск. Им может оказаться длинная деревянная лестница на опасно покосившихся сваях.
По дороге к морю мы встречаем белобрысую девочку с плетеной корзинкой, в которой шевелятся зеленоватые крабы с черными от гнева глазами. На голубых, только что намытых пляжах безлюдно. Песок намывают по рыжим трубам с моря – его привозят шаланды «Черазморфлота» с Тендровской банки. Маленькие лужицы на песке еще полны жизнью подводных глубин – я впервые вижу живых моллюсков, которые легко носят на себе свои раковины-домики. Я уже узнал названия многих черноморских раковин, которых дети собирают в прибойных россыпях. Там среди мидий, устриц и сердцевидок можно найти створки морских черенков, конусы китайских шапочек и изящные оранжевые лепестки морских гребешков. Поражаешься щедрому богатству нашего моря, хоть у него и слава бедного родственника великих океанов.
Вдоль тихого прибоя высыхает радужная пена ночного шторма. На песке смиренно тают голубые и желтоватые медузы, беспомощно сложив у самой кромки жизни свои кружевные шлейфы. По сырому песку, брезгливо подбирая пушистые лапы, проходит кот, обитатель одной из дач, оставленный хозяевами. Пригибаясь, как охотник, он не сводит глаз с чаек, которые гуляют по холодным скалам. Под пестрым зонтом сидит художник. Он пользуется только двумя красками – синей и желтой, и на этюде получается аквамариновое море, голубой песок побережья, желтые скалы и сиреневая тень Большефонтанского мыса.
За лето снесли дачки-курени, стоявшие одна к одной у самого прибоя. Они были весьма живописны и собраны, казалось, из случайных вещей. Здесь можно было увидеть душ, сделанный из желтой бочки с красной ракушкой фирмы «Ройал Датч Шелл», или вместо занавеси на дверях мог висеть синтетический флаг Великобритании, а порог мог быть сбит из почерневших обломков рангоута с надписью «Кардифф-док». Легко предположить, что все эти забавные вещи щедро выбрасывало море.
От каждой дачки к прибою вела лестница, похожая на трап старинного галеона. К трапам, как старые сторожевые псы, были привязаны лодки. Под плоскими крышами куреней сушились на солнце бычки и ставрида, жизненный путь которых заканчивался в «Гамбринусе». Летом в этих дачках жили коричневые люди, глаза которых были полны отрешенности от городской суеты. Знойные дни таяли, дрожа, и в тишине было слышно, как трескается красная сарматская глина обрывов и с мышиным шорохом осыпаются песчинки.
ЧЕМ притягателен Фонтан? В Одессе, в центре, на каждой улице растут свои деревья. На Пушкинской в начале весны начинают менять шершавую платиновую кору платаны – она отлетает с шумом, похожим на шорох крыльев разбуженной ночью птицы. Дерибасовская утопает в ароматах цветущих лип. В июне на улице Карла Маркса развешивают пахучие гирлянды цветов катальпы. Каштаны командуют на Приморском бульваре, а на Пролетарском – канадские клены. Все улицы, ведущие в сторону моря, после войны были засажены акациями. Есть улицы – тополиные аллеи, есть – дубовые рощи. Как утверждают краеведы, на каждого одессита приходится 12 квадратных метров зеленых насаждений. «У вас даже в витринах магазинов растет виноград!» - удивлялись мои друзья-москвичи.
На Фонтанах деревья, кусты и травы – все вперемешку, и этот пестрый беспорядок очарователен, как взбалмошность красивой женщины. Я приходил туда много раз. Солнечные дни, украшенные летающей паутиной, прерывались дождями. Я жадно впитывал в себя звуки, краски и запахи большефонтанской осени.
Листья на деревьях желтеют по-разному. У каштанов они поражаются по краям рыжими подпалинами. Дубы ржавеют и сохраняют тяжелую листву до весны. Тополя седеют: листья их теряют блеск, кроны катастрофически редеют. Ярче всех загораются клены: они вспыхивают изнутри, и их золотые факелы подолгу горят среди пышной еще зелени. Акации, как крезы, сорят направо и налево золотом – этой разменной монетой осени. Березы наряжаются в бальные платья из золотых блесток и однажды под холодным ветром сгорают в одну ночь.
Еще листопад музыкален. Падая, листья совершают свой последний танец. Их таинственные па исполнены скрытого смысла: вальсы берез, танго каштанов, неприкаянные ритмы вязов, фанданго кленов, гитарные переборы акаций. Но мы знаем лишь о законах гравитации – не более того. Позже, с возрастом, я много узнаю о природе, ее удивительных, повторяющихся из года в год закономерностях и почти магических чудесах в кажущихся мелочах.
Той осенью на Фонтанах я услышал торжественную музыку в светлом храме осени. И когда ночью печатал на машинке очерк для «Моряка», ее клавиши казались мне клавишами фортепиано, и из аккордов осени получались мокрые сады на Фонтанах, маленькие виноградники над морем, улочки, по щиколотку усыпанные уютно шуршащей палой листвой, и голубоглазый туман, стоящий в задумчивости над пляжами…
Мне, как когда-то Паустовскому, захотелось побыть отшельником в этом покинутом людьми краю.
ОДНАЖДЫ я приехал сюда из города и остался на маленькой деревянной даче под крышей из оранжевой марсельской черепицы. День догорал в степи за Черемушками. Шумело море. Где бы вы ни были на Фонтанах, его голос слышен постоянно, как в раковинах рапаны. К вечеру пришли ветер с дождем, синие от холода. У ветра был веселый характер, а дождь, как последний романтик, казался беспросветным пессимистом. Соединял их вместе, должно быть, закон единства противоположностей.
Ветер прибежал первым. Он носился по саду, отряхивал листву с деревьев, хлопал калиткой, свистел на чердаке и швырял в стекла веранды сухие ветки. Потом притащился дождь, задумчивый и близорукий. Он зашуршал в винограднике, забарабанил по крыше и остался на всю ночь шелестеть в саду.
Я затопил железную печурку и долго сидел у живого огня. Море безумствовало у прибрежных скал, а сад тяжело вздыхал о прошедшем лете. Но у него все впереди – новая весна, неутомимое солнце, веселые пчелы и упоительные трели соловьев. А я вспомнил, как весной, когда собирались сносить дачи на 12-й станции, какой-то частник решил сжечь свою дачу вместе с садом – по принципу «не мне, так никому». На измученный сад страшно было смотреть. Роскошная яблоня почернела от горя, розовые лепестки ее цветов превратились в ржавчину, а от двух абрикос остались черные скелеты.
В тот год впервые на государственном уровне – в Верховном Совете СССР - заговорили об охране природы. В обиходе еще не было понятия «экология», но умные люди уже предупреждали о будущих проблемах. В том числе и в Одессе. И нам, журналистам, надо было напоминать, что вся зеленая, золотая, пурпурная прелесть Южной Пальмиры рукотворна, создана руками человека. Трудно представить себе, что некогда на ее месте были пустынные степи Дикого поля – потрескавшаяся от зноя земля, по которой носились ошалевшие пыльные смерчи. А сегодня у Одессы такие мощные «зеленые легкие». Придет время, и за спиленное в городе дерево виновник станет отвечать по закону.
Тогда я прочитал страшную книгу «Оскальпированная земля». Оказалось, в самом центре Европы есть пустыни: мертвые раскопы Силезии, напоминающие лунный ландшафт, облысевшие холмы Далмации, бесплодные земли греческих островов, которые в древности были столь плодородны. Это тоже дело рук человеческих, и пора было бить вселенскую тревогу.
Об этом я размышлял в ту осеннюю дождливую ночь на берегу пустынного моря. Море – прародина жизни, именно в его эстуариях появилась первая живая клетка – явление, как утверждала тогда наука, настолько случайное и редкое, что маловероятно, чтобы в наше с вами мгновение (а в бесконечности времени наша цивилизация – хрупкая секунда) где-то в иных мирах родилась еще одна жизнь. Вселенная мертва, и только наша голубая Земля нежно дышит теплом жизни. Вот почему мы любим природу – дыхание жизни. И тогда под шум дождя на крыше и гул ветра в саду я вспомнил слова любимого писателя:
«Всю нарядность Неаполитанского залива с его пиршеством красок я отдал бы за мокрый от дождя ивовый куст на песчаном берегу».
И эти простые слова, идущие от сердца, убеждали меня, сколь бесплоден громкий социалистический патриотизм, а настоящая любовь к жизни и родине у нас в генах.