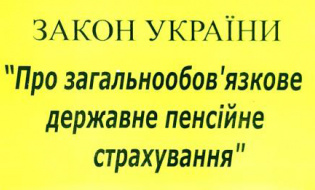Стройные мачты яхт, отражающиеся в спокойной закатной воде, оранжевые отвалы сбегающего к белым барашкам прибоя глинистого берега, рвущиеся на морском ветру разноцветные клочки бумаги, ткани, пластика, – картины Алексея Зоркальцева полны солнца, соленого воздуха и удивительного ощущения реальности.
Диапазон интересов художника не ограничивается лишь морскими пейзажами, он гораздо богаче. Но есть одна особенность, характерная для всех его работ – теплые, радостные тона, тем более удивительные, что Алексей Николаевич – уроженец Иркутской области.
– Мой отец был военным, вырос я действительно в Сибири, – смеется художник. – Но мама моя – одесситка. Мы частенько навещали ее родной город, и я всегда мечтал поселиться именно здесь. Я женился на уроженке этого прекрасного города, случайно оказавшейся в наших снегах, и в 1980-м переехал в Одессу. Здесь наконец-то зажил этим прекрасным морем, побережьем, горячим солнцем. Видимо, и краски я выбрал из чувства протеста против жутких сибирских холодов.
Наш разговор ничуть не напоминает интервью, где журналист задает кажущиеся ему каверзными вопросы, а интервьюируемый тщательно подбирает слова, чтобы их невозможно было истолковать двояко. Мы сидим друг напротив друга, прихлебываем чай и неспешно беседуем обо всем, что придет в голову. Я признаюсь, что не слишком глубоко разбираюсь в искусстве, оцениваю живопись с точки зрения «нравится – не нравится».
– Мало кто по-настоящему разбирается в искусстве, кроме искусствоведов, – говорит мой собеседник. – Художнику интересно, прежде всего, свое творчество. Со временем и с возрастом становишься все интереснее сам себе. Об этом мало кто говорит, но чем больше ты присматриваешься к другим, тем меньше у тебя остается времени заниматься собственными эмоциями, своим личным творчеством. А если интересоваться чужим в ущерб своему внутреннему миру, то со временем становишься шаблонным. Я, к сожалению, знаю такие примеры. А художнику, думаю, прежде всего нужно познавать себя как можно глубже.
Я вспоминаю, как в свое время терзался вопросом, интересно ли мое мнение окружающим, стоит ли вообще его высказывать одновременно с мэтрами профессии? Ведь они, вполне вероятно, напишут лучше, ярче, убедительнее меня. А если к тому же столичный «профи» осветил тему раньше тебя, то уговорить себя заняться ею же – во сто крат сложнее, пусть ты даже и не согласен с коллегой.
– Комплексы и у художников встречаются не реже, – отвечает на мои сомнения Зоркальцев. – И есть еще одна опасность. Существует серьезный соблазн быть похожим на кого-то. Через такой период проходят все, особенно в молодом возрасте. Я едва избежал похожей «потери себя». В свое время я очень обжегся с Сальвадором Дали. В возрасте от двадцати до тридцати лет я сделал немало его копий. А после – увлекся плакатом. И, думаю, не случайно, а под влиянием Дали. Он ведь весьма условен и символичен.
– Но Дали – это не такой уж плохой ориентир, – говорю я под влиянием авторитета имени знаменитого испанца.
– Дали, без сомнения, велик. Все же, первооткрыватель сюрреализма. Но с точки зрения техники живописи, на мой взгляд, его работы зачастую слабоваты. Есть места хорошо проработанные, а есть и откровенно небрежно написанные. Если уж ты с превеликой тщательностью делаешь фрагмент, то это накладывает обязательство и на остальное полотно. Это культура живописи. Признак уважения к зрителю. Дали же иногда настолько терял интерес к работе, что Гала его буквально заставляла закончить картину...
Зоркальцев говорит без нажима, тихим голосом, но чувствуется, что его слова – не поза и не культурный нигилизм. Он убежден в том, что в творчестве не бывает мелочей.
– Живопись – это в громадной степени ремесло. Обязательно нужно доделать работу до конца, пусть даже совершая над собой усилие. Потому что сам процесс творчества, эйфории – недолог. Мысль, идею выразил, а потом начинается работа, упорный труд. Ведь замысел должен быть понятен не только тебе. Мне проще, я работаю в основном в жанре реализма. В нем ничего заумного нет: интим, пристрастие к предметам, пейзажи, натюрморты…
Коль я уже признался в собственной некомпетентности, рискую задать вопрос, мучивший меня много лет. Пейзажи, жанровые сценки как-то понятны, а что побуждает состоявшихся художников, не учеников живописцев, писать натюрморты? Какую скрытую мысль художник вкладывает в изображение «мертвой природы»? Ведь это не просто желание нарисовать еще один кочан кукурузы в бесконечной череде кочанов реалистов? Алексея Николаевича мой вопрос откровенно потешает. И без того улыбчивые глаза его за стеклами очков блестят уже каким-то карнавальным весельем.
– Все начинается с какого-то предмета, который тебя заинтересовал, – говорит он. – У меня есть работа, которая называется «Скоро Хеллоуин». Обычно на День всех святых монстра вырезают из тыквы, а тут, зайдя на Привоз, я увидал большой красивый арбуз, который предприимчивая тетка-продавщица изрезала подобным образом. «Глаза» она уже вырезала, начала рот резать... Меня именно этот необычный, чисто одесский подход заинтересовал. Попросил ее подождать, сфотографировал. Потом купил арбуз, пришел в мастерскую, надрезал таким же образом и стал его писать. И получился у меня такой арбуз с двумя дырками, безо «рта» (ведь Хеллоуин еще не наступил, только приближается). Струйка сока из «глаза» вытекла на стол. Аура праздника, настроение… Вот так рождается натюрморт. – Зоркальцев озорно подмигивает. – А уже потом искусствоведы что-то там придумывают, глубокие смыслы находят.
Нет, конечно, – серьезнеет он, – какие-то большие работы, конечно, продумываются. Сейчас я задумал картину «Сарматская баба». Были мы недавно на Куяльнике, а там как раз одна из этих каменных баб. Пыль веков на ней. А рядом – живая девушка. Хочу писать диптих: каменная баба лицом к зрителю, а рядом с ней – спиной – живая. И обратный сюжет. Это уже идея. Вечные ценности, воплощенные в такой же вечной масляной живописи. Ведь долговечность картины, написанной маслом, несопоставима с длиной человеческой жизни. Пятьсот-шестьсот лет живут полотна, – это как в граните высекаешь. И здесь любая небрежность тоже остается на века.
Голос художника внезапно становится тверже.
– Нельзя считать публику дурой! «Три дерьмовенькие картинки, нарисованные вчера», как говаривал Пикассо, – это действительно дерьмовенькие картинки, – он нажимает на слово «действительно». – Неуважение к зрителю всегда выльется в творческое падение. Оплачивать обеды автографом, конечно, лестно, но не честно – труд других должен оплачиваться плодами твоего труда. «И так схавают» – не мое кредо.
В наше время, когда понятие франшизы плотно вошло в обиход, имя превратилось в такой же товар, как спички или колбаса, а реклама – в субкультуру, точка зрения Алексея Николаевича не может не импонировать. Но ведь всех нас порой одолевает лень, нежелание работать.
– Я не замечал за собой такого нежелания, – говорит Зоркальцев. – Понимаете, сейчас пришел такой период, когда я могу уже не задумываться над техникой. В руках появилось мастерство. Я просто наслаждаюсь. Это замечательное ощущение. Увы, оно пришло достаточно поздно, я ведь практически самоучка. Художественное училище в свое время не закончил – увлекся дизайном, сменил профиль учебы. Потом было увлечение плакатом, признание в этом жанре и страшный соблазн почить на лаврах. Помните фестивали плаката на Дерибасовской в конце 1980-х – начале 1990-х? Мы неоднократно становились лауреатами, нас печатали в столицах миллионными тиражами. И все же ушел в живопись. Закрыл для себя эту и многие другие довольно прибыльные страницы. На то же подражание Дали очень хороший спрос был, да и сейчас есть. Но это же отрава. Проходит время, и ты вдруг понимаешь, что ничего подлинно своего не сделал. Я-то художником себя осознал лишь лет в сорок – сорок пять. Тогда пришло наконец ощущение огромного удовлетворения от собственного творчества. За это ощущение можно поступиться многим – комфортом, прибылью, славой.
Многое из того, о чем мы говорили, не вошло в этот материал: ни рассказ Алексея Николаевича о его друзьях, доброжелательно и настойчиво направляющих его на путь живописца, ни забавная история о портрете соседского кота, ни поэтическое описание простого дворика с глицинией, сиренью и жимолостью, где расположена мастерская Зоркальцева. Трудно передать на бумаге теплоту, с которой художник рассказывает о своих коллегах по цеху, по-хорошему завидует тем из них, кому повезло окончить академию художеств и стать сложившимися мастерами уже в молодые годы.
Глядя вслед удаляющемуся пружинистым шагом по редакционному коридору художнику, я думаю, что мир до сих пор не превратился в громадный супермаркет, где можно купить и триста граммов мужества, и кулечек славы, и полкило подержанной совести, лишь благодаря людям, уважительно относящимся к другим и бережно хранящим собственную индивидуальность.