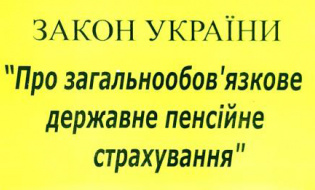ГЛАВЫ ИЗ ПОВЕСТИ
(ПРОДОЛЖЕНИЕ.НАЧАЛО В НОМЕРЕ ЗА 19 АПРЕЛЯ С.Г.)
ТУМАНЫ ЛАНЖЕРОНА
Иногда в Одессу приходит маленькая альпийская зима. Тогда декабрь тепл, как детское дыхание на ветру. В парке кусты сирени, обманутые теплом с Анатолийских берегов, готовятся раскрыть почки и уже показывают трогательно нежную зелень.
В тот февраль внезапно пришли небывалые снегопады. Мир посветлел, очистился. Необыкновенная тишина стояла у моря. Стрельчатые ветки дрока держали на своих мизинцах охапки снега. Плавно и молча парили над пустынными пляжами чайки. Бесшумно, как стрекоза, перелетал от облака к облаку желтый вертолет. Тихо падал и падал снег.
Вдруг море замерзло в одну ночь. Оно белело до горизонта, и его молчание казалось невероятным. Трудно было поверить, что вечное движение и неумолчный гул стихии материализовались в ледяные кружева прибоя. Я привык, выходя по узким переулкам к краю городского плато, уже издалека слышать этот неповторимый голос моря. Он напоминал шум проносящегося вдали поезда, органный гул соснового бора в ветреную погоду, рев стадиона на футбольных матчах и рокот великих водопадов.
Теперь передо мной было только белое безмолвие, небывалое оцепенение.
Я видел белую мглу, налитую до краев над морем и землей, как было, должно быть, при рождении мира. Туман так густ, что на протянутой ладони появлялись капельки холодной влаги. Но это была не туманная пелена – нездоровое дыхание городов-гигантов: то было нежное дыхание самой природы – неба, моря, земли, чистое как источник в горах.
Только родник у скал, унизанных сосульками, не поддавался оцепенению и был сам по себе – шумел водопадом, чернела вода под теплым паром, и к ней прилетали чайки-рыбачки с гордыми глазами, и утка-простолюдинка плавала в полынье, а полусонные рыбы приплывали сюда подышать кислородом.
Сияло солнце, серебрился и вспыхивал снег искрами, но почему-то не уходила морозная дымка – неясен в тумане горизонт, туманны берега Аркадии и Дофиновки, туманны сады наверху, у самого края плато. Отсюда, с Ланжерона, видно, как там, над прозрачными рощами черноморских склонов, голубеют в тумане островерхие крыши и башни улицы Гефта. Эта улочка в то время принадлежала самому привилегированному классу нашей страны – детям. Она мала – голоса малышей с одного ее конца были слышны на другом.
Дела приводили меня на эту улочку каждое утро и каждый вечер, и я считал это большой удачей. Я водил дочку в детский сад – старинный особняк с палевым порталом, каштановым парком и бассейном за чугунной оградой, с мраморными колоннами у парадного входа, с лоджиями и овальными нишами в стенах, где когда-то стояли античные статуи, с пустыми геральдическими щитами над окнами и римским приветствием на треснувшем от воспоминаний гранитном пороге: «Сальве!» – у древних римлян «Привет!».
Мы с Аннушкой по дороге в детсад встречали рассветы над морем. Дочь представлялась хозяйкой этой маленькой приморской улочки и справедливо считала, что рассветы принадлежали ей.
– Смотри, – говорила она мне, делая широкий жест рукой, – видишь, какая сегодня заря?
Я кивал, вертел головой туда-сюда, хотел охватить сразу все это великолепие, благодарно заглядывал в серо-зеленые дочкины глаза и видел в них заревой свет…
С «дочкиной» улицы можно было увидеть ералашность портовых задворок, где свалены горы якорных цепей, где дремлют, накренившись, дряхлые шлюпки и оранжево светятся в сумерках туманных дней огромные бакены. Видно было, как на рейде в непогоду мотаются на якорных цепях супертанкеры и гигантские зерновозы, пришедшие из дальних стран, а мимо них проходят белые лайнеры, возвратившиеся с утренней дымкой из дальних странствий. Казалось, что на их бортах еще качаются тени александрийских пальм, зеленеют запахи морской травы с причалов Фамагусты, плещется изумрудная синева Адриатики.
Зима в Одессе чаще всего окружена туманами. Они целыми днями молча бродят по улицам, спускаются и поднимаются маршами Потемкинской лестницы, гасят фонари возле Оперы, шелестят в мокрых кронах платанов и сиротливо шепчутся у теплых окон вечерних домов. Над городом днем и ночью неумолчно гудит наутофон Воронцовского маяка…
Я перечитал о туманах все, что смог найти в библиотеках. О добрых туманах, которые весной и глубокой осенью спасают от заморозков озимую поросль и фруктовые сады. О том, как в Гибралтаре, где нет источников пресной воды, ее собирают из туманов, о том, что на островах Зеленого Мыса не бывает дождей, но все дни года там туманны, и это спасает леса от гибели, а люди из цветов собирают драгоценную влагу. О лондонском тумане-убийце, который в одну проклятую ночь в декабре 1952 года унес 4 тысячи человеческих жизней. Неудивительно, что в каждом английском замке до сих пор живут привидения, и что они появляются даже на улицах больших городов, и их нередко встречают на мостах над Темзой.
На морских картах Ньюфаундленда сами названия говорят о бедах, которые приносят мореплавателям туманы: мыс Ошибки и мыс Мучения, залив Отчаяния и залив Обманутой Надежды, риф Смерти и риф Мертвого Моряка. Я читал о гибельных туманах острова Сейбл, печально знаменитого кладбища кораблей, о мелях Гудвина за устьем Темзы, о том, как внезапно падает облачное небо за мысом Доброй Надежды, где встречаются два великих океана, и в эфир несутся вопли ослепших судов: «Спасите наши души!», а в напряженной тишине рубок, нарушаемой только туманной «сиреной Веста», штурманы приникают к мерцающим экранам локаторов.
Туманы всегда были проклятием моряков. В старой энциклопедии Черного моря нашел: «Обширные обволакивающие туманы появляются в наших широтах осенью и зимою в холодную погоду при западных ветрах с морской, более нагретой, стороны…»
В один из таких дней в Одесском заливе столкнулись два судна и затонули. Город услышал три мощных взрыва – это взрывались наполненные газом танки болгарского нефтевоза «Лом». Катастрофа произошла в нескольких милях от берега. Когда туман рассеялся под резким ветром от норд-оста, все увидели место катастрофы: над беспокойным морем возвышалась обледеневшая рубка теплохода «Моздок». Она была так близко, что трагедия казалась невероятной.
Взяв наугад одну из лоций Средиземного моря, я увидел чью-то закладку с надписью, сделанной чернилами и каллиграфическим почерком: «Туман». И стал читать: «Видимость зависит от характера ветров и туманов. Так, ветры сирокко и «либеччо» ухудшают условия видимости, а ветер бора и ветры, похожие на мистраль, наоборот, повышают видимость до хорошей и очень хорошей».
В лоциях встречал простые слова, наполненные запахом моря, дыханием дальних плаваний: «число дней с туманом», «режим туманов», «годовой ход морских туманов»… Я всегда любил туманные дни и особенно ночи, а в юности прочел о том, что здесь, на Черноморской улице, Паустовский полюбил запах тумана. Он написал о нем прекрасные строки: «То был запах вокзалов, пристаней, палуб, – всего, что связано со странствиями, со сменой обширных сухопутных и морских пространств, с шествием в светоносной синеве Архипелага далеких розовеющих островов, откуда ветер доносит слабый запах лимона, с сырым ветром и беспокойными огнями маяков Ла-Манша, с плавным ходом поезда сквозь наши дремлющие лесные края, со всем, что берет в пожизненный плен наше слабое человеческое сердце».
Но однажды утром туман опадет росой на прошлогодние зеленые травы над морем, утренний луч солнца первым пробьется сквозь сиреневую мглу, золотой своей рукой отдернет туманный занавес ночи и засмотрится в чистое окно неба, – на то, как медленно ночная мгла уходит на запад, и ночь тянет за собой свой туманный шлейф.
Я писал тогда по ночам в большой кухне нашей коммунальной квартиры, установив свою пишущую машинку на широкой доске для разделки рыбы.
В тот час в коммуне все пять семей, от мала до велика, спали, и мне никто не мешал. Клавиатура пишущей машинки превращалась для меня в клавиши фортепиано. Из ночной музыки появлялись мокрые скамейки бульвара, влюбленные парочки рука об руку, неизъяснимая синева предвесеннего неба, одесские зонтики, похожие на шербурские, голуби на круглых крышах Оперы, античные скульптуры, усыпанные осенней листвой санаторных парков.
В те тихие туманные ночи под зовы наутофона близкого Воронцовского маяка мне писалось особенно легко и вдохновенно.
(Печатается в сокращении)