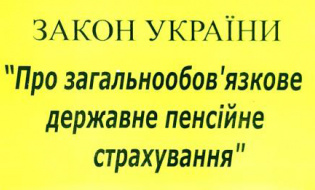Шо ты там не толкуй мне, дорогой читатель, а таки да – я ничем не могу затуманить правоту когда-то где-то кем-то выглаголенного: «Одесса – столица смеха». Ты только прикинь, скоко в «красавицу у моря» понаехало, поналетело и понаплыло усякого люду на юморной шабаш, притороченный до первого апреля. От одних названий искренне неподдельный улыбон растягивает губы. Чего стоит только «Лісапєтний батальйон» с его прибамбасами. А революционноюморнополитэкономкультдесант «95-го квартала», к которому у меня давненько вызрел вопросик с ответиком: «Над кем смеетесь, господа? Ваш смех для них – с гуся вода!» Но, как охладил когда-то Леонид Макарович Кравчук наше любопытство узнать, от чего же мы дошли до жизни такой, что все чаще улыбаемся сквозь слезы: «шо маємо, те і маємо!» (восклицательный знак «присобачен» автором!) И вот уже немало лет мы тащим надежду на лучшее завтра на кравчучках и на кучмовозах, под жужжание тружениц пчел, которые еще не разлюбил так много обещавший нам Виктор Андреевич Ющенко, и под рев КАМАЗов с долларами, добытыми тоскующим ныне по родине беглецом Виктором Федоровичем Януковичем. Тащим под напутствие мудрого Алексея Толстого с его наивным романтиком Буратино, верившим в чудеса:
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед:
Земля наша богата,
Порядка только нет.
Эпигоны от юмора достали из сундуков хранившиеся в них карнавальные причиндалы и «выплеснулись» на улицы, площади, бульвары… Новички юморины чем-то обновили традиционную мишуру шествий… В театрах, гостиницах, кафе, ночных клубах, забегаловках попотчевали ростом цен на билеты, запивон и закусон… По постулатам демократии, как и в ЕС, каждый определял сам для себя, где ему веселиться и кого-то юморить по зову вкуса и, конечно же, по толщине кошелька или количеству разнокалиберных купюр в кармане, если такового атрибута, как кошелек, не имеется. И, конечно же, по правам, гарантированным законами и Конституцией.
Я, по обычаю, не поддавшись ни на какие зазывалки, обещаловки, заманки-приманки, афиши, решил окунуться в юморную купель «Привоза», которая готовится без спецорганизаторов, постановщиков, да всяких там модераторов, риэлторов, маркетологов, спонсоров и прочая, и прочая… Ее подпитывает родник быстротекущей жизни с ненадуманными реалиями повседневья, скрашенной надеждой на лучшее будущее. Согласитесь, уважаемые друзья, приятели, господа и, если можно, дамы, что это не такой уж и плохой вариант.
«Привоз» бурлит. Особое оживление – у саженцев яблонь, груш, слив, персиков, винограда. Изобилие цветов чарует взгляд. Симпатичная, черноглазая гагаузка вывесила над своим растительным товаром плакат: «150 сортов роз».
– А почему именно сто пятьдесят? – любопытствую.
Черноглазая, кокетничая, ответствовала:
– Столько вас, мужиков, я с ума свела, – и лучезарно улыбнулась. А хмурая, зонтовидная и неподвижная соседка с кустами смородины внесла поправку:
– Она большего счета не знает. На той цифире и загнулась. Бери ромашки, гадать будешь.
Этим пассажем «хмурь» отбила у меня охоту прицениться к розам, и я отвалил к прилавкам, заваленным разнокалиберной картошкой, свеклой, морковью, капустой. От них дочапал к яичному ряду, где птицепродукция красовалась в аккуратно выложенных горках, ведрах, корзинках, пакетах… Взгляд привлекло разломленное пополам яйцо, да так, что в большей части светлокоричневой скорлупы красовался сохранивший свою первозданную форму желток.
– Почем ваши яйца? – спрашиваю полногрудую торговку в цветастой косынке, чем-то напоминающую обеспокоенную квочку. Она шморгнула клювообразным носом и с ехидинкой ответила:
– Яйца вопщем-то не мои, а курячие. А потому и недорогие. Двадцать гривень за десяток.
– Свежие?
– Шо, не видишь, – и показала на разбитое яйцо.
– Шо это, реклама, так сказать?
– Нифига ты не понял, это ж светофор.
– Не понял, типа, шо еще за светофор?
– Неразвитым поясняю: предупредительный. Вот ты шел, глянул и шо? Тормознул. Беседуешь. Может, шо-то у меня и возьмешь. А так бы прошмыгнул себе и баста, без моего светофорчика.
И ведь права таки яйцеторговка. Именно желток и приманил мой взгляд. Вот вам и наглядный пример усиления конкурентоспособности в нелицензированном бизнесе.
А у аккуратненькой, ну прямо божий тебе одуванчик, бабули, выложившей на потертую клееночку пахучую зелень петрушки и укропа, – свой метод лицензирования. Она достала из-за пазухи гривню и помахала ею над зеленью, будто мух отгоняла. Затем шо-то прошептала и поплевала на новенькую купюру. И тут же к ней причалил вихлястый, добродушного вида грузин в вельветовых джинсах, сползающих на растоптанные туфли с медными бляшками.
– Почем ты хочешь за это, дарагая?
– По три гривни за пучок.
Надо было видеть, какое недовольство имел на морде вихлястый, закричав:
– Эта тут пучочек, а не пучок, старая, вай тебе вай.
– Таких снопов нигде не найдешь. Иди побегай, милок.
– Ладно, бэром все.
Надо было видеть и то, с каким вожделением несколько раз пересчитывала аж шестьдесят гривень благообразная бабуля, пославшая крестное знамение вслед оптовому купцу. Вот таким, как она, «Привоз» ныне – своеобразное «Эльдорадо», помогающее выживать в, не побоюсь этого слова, жестоких реалиях.
Приглядываюсь к свекле. Ее хозяин, стриженый под Котовского, нахмурив брови, шо-то шепчет про себя, затем спрашивает меня:
– Слушай, блин, я отупел с этой свеклой. Забыл, где числитель, а где знаменатель, напомни.
– А че так, зачем?
– Доходы Яценюка считаю.
– Шутишь, брат? Ты не хлопай ушами – это не двери.
А в ответ:
– Короче! Давай меньше текста. Шо хочешь?
Я, конечно же, ничего уже не хотел иметь от горе-математика, и потопал до палатки с семенами, где в прошлом году мне всучили невсходные огурцы, свеклу и помидоры из Голландии в красивых упаковках. Топаю и вслушиваюсь в «привозовский» речитатив вне всяких грамматических и стилистических канонов, к которым нас настойчиво приучали страстнобесстрастные школьные и вузовские педагоги.
* * *
– Хиляем на пиво.
– Мы уже шандарахнули.
* * *
– Тюнечка сказала, шо Ксюха уже подзалетела.
– Издрасте, она ж врет, как дыхает, а дыхает часто.
* * *
– Ты обходи там, где скандалят.
– Не дрейфь, полицейские нас бдят. Они любому клизму вставят.
* * *
– Вчера министра слушала по телеку. Наобещал.
– Та они могут наобещать и тэ, и тэ, и тэ. А шо з того тэ? Толку – ноль. Нам каюк!
– Ой-ей-ей, ого-го, смелая ты – власть критикуешь.
– Для усех быть любимой сложно, но я постараюсь. Мне бы миллион лимонов, я купила б весь «Привоз».
* * *
Прилично одетый мужчина нервно кричит в мобилку:
– Ну, спасибочки, за радость, а ты кто такая?
И я вспомнил анекдотическое:
– Дорогой, у нас такое счастье, сын родился!
– Поздравляю! Спасибо, я рад. А кто это говорит?
* * *
– Дама, возьмите эликсир жизни.
– У меня он уже есть, – ответила дама с накрашенными до безумия губами и накладными ресницами, и проорала: – Фима, хватит твоя проба той капусты! Не лови гав!
Животастенький «эликсир» мотыльком засеменил на зов:
– Теперь, мама, на огурчики!
– Хватит шалопайничать! Оно по-всякому как-бы бывает на понос! Не усе лафа!
У «привозовского» электората свой ритм движения, особые мелодия говора, грусть и страсть, чувственность… Тут по-особому же проявляются и грубость, и нежность, покорность и противодействие, отчаяние и надежда, приземленность и фантазерство… И главное – всеобъединяющее начало: возможность быть свободным в решении купить – не купить, продать – не продать. Я читаю это начало на лицах с печатью уверенности и растерянности, сосредоточенности и легкокрылой беспечности, упертой решительности и кисельного слабоволия… Кого-то беззлобно осуждаю, кому-то сочувствую, а кому-то и помогаю.
Два небритых, еще не опустившихся окончательно на дно, мужика ведут беседу. Они среднего роста, лобастые, с глазами навыкате, смахивают на близнецов. Тот, что с усиками и надувным розовым шариком над головой – первоапрельским брендом – басит:
– Сань, шо ты все ноешь. Хочешь, я тебя счастливым сделаю. На тебе гривню, пошматуй на кусочки и разбрасай бля себя. Все будут думать, шо ты богатый одесит. А тебе станет легко и весело.
– Давай, – молвил Саня и, взяв протянутую гривню, положил ее в карман и резюмировал. – Хай твое добро вернется тебе добром. Я еще не пришмандоканый и не прешелепкуватый, шоб деньгу рвать.
А когда я протянул Сане две гривни, он улыбчиво сказал:
– Так за это я и спою нехило, – и пропел:
Хороши на мельнице мешочки,
Еще лучше с белою мукой.
Выйдешь вечерочком,
Свиснешь два мешочка –
Сразу жизнь становится иной. (Вместо слова «свиснешь» прозвучало другое, из Баркова).
Честно говоря, меня расстрогали кореша по бутыльболу своей непосредственностью. Именно такая непосредственность и порождает «привозовские» экспромты, которые невозможно не взять на заметку. Ведь такое новословие и подразумевание способны изобрести только одесситы. Они, к примеру, не скажут: мы успели к трамваю, а изрекут: мы как раз попали под трамвай. Укладывая покупку в сумку, одессит не скажет: влажное плохо лезет в пакет, а выразится: оно такое влажное, шо ты его туда, а оно тебе назад. Вместо вопроса «Чем занимаешься, что делаешь?» он употребит свое кровное: «Ты шо там?» А чего стоят такие откровения: «Чем дальше я его знаю, тем больше он от меня». «Конечно, оно, правительство, таки да, шо-то делает, но шо-то ни то». «Я ж ему – няв, а он – гав, гребаный насос!» «А ты шандарахни по жбану, сразу будешь иметь и няв, и гав». «В общем, за шо ви спрашиваете, мужчина? У нас имеется…» Вот и догадывайся:
То ли он идет со мною,
То ли я иду при нем…
Так вот я и шествовал по весеннему «Привозу», следуя неопровержимому правилу: журналист должен видеть то, что не видят другие и слышать то, что не слышат другие. И если кто-то из читателей поддаст сомнению это правило, то я, конечно же, как одессит, з вас умру. Единственное, на что не обращал внимания, так это на обрывки бумаги, картона, сморщенные, помятые каблуками кульки и коробки, в общем на все то, шо именуется в Одессе смиттём, какого в «Чреве Одессы» стоко, шо уже не нада.
Расстроило мой взор то, шо творится на Сенной площади, отданной под реконструкцию. Из-за нее сменила куда-то место дислокации торговка рачками с грозным объявлением: «Справок не даю. Надоели!» Ликвидировался стул, на котором великодушно предлагалось посидеть за каких-то 50 копеек. Исчезла и табличка со ствола могучего береста: «Помогите дереву на удобрение». Зато появилось подтверждение того, что у Сереги-таксиста, заявившего с билборда о нежелании изучать «англійську», есть последователи: «Візьмуся за англійську пізніше, зразу ж після скорочення». «Без англійської можна спокійно жити». Думаю, шо на эту инвестиционную тему пошутят с билбордов и другие юморные одэситы.
Уже на выходе из «Чрева Одессы» услышал разговор о недавнем нападении на инкассаторов. Чья-то реплика о том, шо на «Привозе» та жидэвокзале вечно шо-то страшное случается, невольно вспомнил прочитанное в «Одесских новостях» за январь 1901 года.
«Вчера днем на Большом вокзале произошел следующий случай. Комиссионер З. Абрамович производил на станции выгрузку сена из вагона. В это время к нему подошел какой-то субъект, оказавшийся впоследствии Иваном Обезъяной, который со словами: «Ты чего чужое сено выгружаешь!», – набросился на него, сшиб с ног и жестоко избил. Абрамович, обливаясь кровью, поднял страшный крик. Не смотря на то, что на крики эти показались рабочие, Обезъяна продолжал топтать ногами несчастного и столкнул свою жертву с дебаркадера на полотно дороги. В то время, когда Абрамовича уложили на дрожки, чтобы доставить в еврейскую больницу, Обезъяна подбежал к одному из грузоотправителей, прося арестовать его, так как избиение произошло «по недоразумению». Врач признал побои, нанесенные Абрамовичу, тяжкими».
А в феврале 1905 года в этой же газете сообщалось: «Старший врач городской больницы г. Сабанеев, проезжая по Слободке-Романовке, подвергся нападению со стороны какого-то субъекта, который, сорвав с головы его каракулевую шапку, скрылся. Такому же нападению подвергся вчера ординатор городской больницы Тырмось. Грабитель вскочил сзади на дрожки, сорвав с головы доктора шапку, спрыгнул и скрылся».
Так шо традиция разбойничать в Одессе давняя. Осуждая ее, я решил побаловать себя молочком из какого-нибудь пригородного села. Мысленно попросив: поцелуй меня, удача (купленное в прошлом «привозовском» вояже скипелось), взял полуторалитровую бутылку с наклейкой «Миргородская» за 16 гривень и услышал за спиной распевное:
Молодая, молодая,
молодая на века,
У тебя я покупаю
Целу литру молока.
Поэтизировал низкорослый крепыш в кепке непонятно какого цвета и темных очках. Я в такт ему процитировал давно знаное:
Подарил тебе я ленту
И росческу для волос,
И вот з ентого моменту
Вроде б шо-то началось…
И, довольный энтим литературно-любовным финалом своей покупнотворческой акции, отправился в родные пенаты. И с таким видом, будто я самому Рокфеллеру двоюродный брат, хотя в общем дело – швах: в кармане терлась об уставшую ногу последняя мелочь. Шоб только вы так не жили, дорогие читатели.